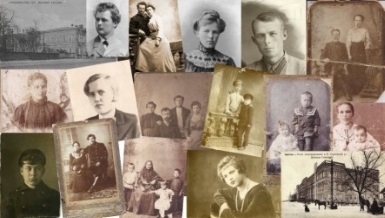Матушка Евдокия
Жену священника принято называть «матушкой». Роль матушки была очень велика в жизни и деятельности священника. Именно от того, какою она была, зависела и атмосфера в доме, и во многом облик самого батюшки. Хорошая матушка была не только хранительницей домашнего очага, но и «правой рукой», помощником пастырю.
Будущая матушка Евдокия Волконская осиротела в раннем детстве. Чьей дочерью она была, точно неизвестно: возможно «из причётнических дочерей Евдокия Фенелонова, вдовы диакона слободы Баланды Стефаниды Фенелоновой дочь»; а может быть Евдокия Добронравова, дочь умершего в 1869 году священника с. Вырыпаевка Аткарского уезда Иоанна Добронравова. Это ещё предстоит выяснить. Можно только сказать, что девочке невероятно повезло: зимой 1869 года в Саратовской епархии открылось женское епархиальное училище, и мать подала прошение о принятии в него Дуняши пансионеркой[1].
Изначально Епархиальное женское училище открывалось именно для девочек - сирот и круглых сирот, но и для них поступление было делом нелёгким: мест мало, а желающих много. Сначала составлялся общий список желающих поступить в училище. Затем на съезде уполномоченных от духовенства при помощи жребия составлялись два списка по числу мест: в первом списке были основные кандидатуры, из самых нуждающихся семей духовенства; во втором – кандидатуры второй очереди, на замену при необходимости. После экзамена девушек в чтении и письме список поступивших уточнялся.
В выпуске № 17 «Саратовских Епархиальных ведомостей» за 1871 год было размещено объявление от Совета Епархиального женского училища: «Попечительство имеет уведомить Совет училища, что на Епархиальном съезде, бывшем в настоящем году, уполномоченными от духовенства избраны посредством жребия в пансионерки, для поступления в женское Епархиальное училище, из сирот-девочек, призреваемых Попечительством, именно: ... и вдовы дьячка слободы Баланды Стефаниды Фенелоновой дочь Евдокия; в кандидатки: … вдовы диакона с. Юнгеровки Александры Юнгеровой дочь Евдокия… (на замену, если основная кандидатура по экзамену не пройдёт). Выбаллотированные[2] Епархиальным съездом сироты должны быть представлены в Епархиальное женское училище не позже 15 числа сентября сего 1871 года, после предварительных испытаний о.о. (отцами) Благочинными в чтении и письме, чтобы Совет, за неграмотностью оных, не нашёл вынужденным отказать в их принятии».
Как будущие матушки, воспитанницы учились исполнять христианские обязанности: читали поочерёдно утренние и вечерние молитвы, молитвою всегда предварялся и заканчивался каждый урок, равно как завтрак, обед и ужин. В воскресные и праздничные дни все воспитанницы обязательно посещали храм Божий, присутствуя при церковном богослужении, во время которого сами они читали и пели. Поочерёдно все воспитанницы исполняли при богослужении обязанности свещеносцев, помощника ктитора[3], обязанности уставщицы, руководя порядком чтений при богослужении. Три раза в год все воспитанницы были на исповеди.
Кроме того, во всех классах воспитанницы обучались рукоделиям в возможно обширном объёме; вне классных занятий – приучались под руководством надзирательниц опытному домашнему хозяйству во всех видах – без особого различия чёрных и белых работ; занимались практически по очереди на кухне и в столовой. Всю одежду и бельё шили сами воспитанницы; уборка за собою, уборка и чистота комнат училищного дома, не требующие больших и напряжённых сил, производилось тоже самими.
Воспитанницам даже, по докторскому усмотрению (при училище состоял на службе доктор и имелась больница на 10 кроватей), дозволялось посещение больницы, с тем, чтобы они могли иметь понятие и по возможности приучались к составлению простых домашних лекарств для обыкновенных болезней: умели бы сделать горчичник, поставить мушку, приставить пиявки ...
Евдокия Ивановна закончила училище в июне 1877 года. «1877 года июня 28. Съезд уполномоченных от духовенства Саратовской епархии слушали: 1) доклад члена совета епархиального женского училища протоиерея Иоанна Смельского о вспомоществовании кончившим курс сиротам-воспитанницам в нынешнем году по 100 рублей каждой, а также о выдаче им одежды, белья и обуви, и 2) словесное предложение Его Преосвященства об обеспечении кончивших курс воспитанниц-сирот квартирою и содержанием впредь до определения их на места службы.
Постановили: ввиду постановлений прошедших епархиальных съездов и ввиду действительной бедности и беспомощности оканчивающих курс воспитанниц-сирот, выдать следующим воспитанницам: Павле Быстровой, Евдокии Добронравовой, Евгении Мокринской, Анне Мокринской, Дарье Милославовой, Евдокии Фенелоновой, Анне Хитровой, Марье Зверевой, Марье Николаевской, Екатерине Синодской и Марье Травницкой по 100 рублей каждой, а также все бельё, обувь и одежду.
Просить также членов совета епархиального женского училища довольствовать пока кончивших курс сирот-воспитанниц – квартирою и продовольствием в том же училище, а между тем члены совета озаботятся приисканием мест для определения их на службу, а наконец предложить чрез «Епархиальные ведомости» о.о. иереям[4] Саратовской епархии, не пожелают ли они взять означенных воспитанниц-сирот домашними учительницами своих детей впредь до определения их на места постоянной службы. На сем резолюция Его Преосвященства: «1877 года июня 29. Исполнить».
Возможно, это объявление в «Саратовских епархиальных ведомостях» прочитал сам Николай Волконский, служивший в то время учителем в Ивановском министерском двухклассном училище села Матюшино Саратовского уезда; или на него обратил внимание отец Николая, протоиерей Иоанн Михайлович Волконский. Но ясно одно: почти сразу после окончания Евдокией училища, она вышла замуж за Николая Ивановича Волконского.

Сначала молодая семья жила в селе Матюшкино, по месту службы главы семьи, где у них родился старший сын Сергей. А в конце сентября 1879 года Николай Волконский получил место священника в Михаило-Архангельской церкви села Малый Бакур Сердобского уезда. В двух верстах, в соседнем селе Большие Бакуры много лет служил священником его отец, Иоанн Михайлович. Родители были уже в годах и не чаяли дождаться внуков. Вероятно, с их помощью молодая семья обзавелась собственным домом (на 1895 год дом числился в собственности Волконских).
При Михаило-Архангельской церкви были земли: усадебная, пахотная и сенокосная. Всю эту землю предстояло обрабатывать главе семейства, ведь священнослужителям, ко всему прочему, приходилось заниматься и простым крестьянским трудом. В этом батюшка очень был схож с крестьянином: та же работа по хозяйству, те же заботы о хлебе, дровах и скоте. Хотя пастырю было очень сложно совмещать один труд с другим, такое хозяйство всё-таки приносило определённый доход.
Такая, чисто крестьянская жизнь, вне всякого сомнения, выбивала священника из его интеллектуальной деятельности. Вряд ли можно «размышлять о чём-либо возвышенном и прекрасном, роясь в навозе, или написать что-нибудь после трудового рабочего дня, проведённого в поле под лучами палящего солнца», — иронично замечал калязинский священник И. Белюстин.
Семейный бюджет семьи пастыря складывался из платы за требы[5], государственного оклада (причту, состоящему из священника и псаломщика, полагалось казённое жалованье 152 р. 88 к. в год) и собственного хозяйства. Плата за требы выражалась как в деньгах, так и в пожертвованиях хлебом и прочими продуктами.
Русское православное духовенство, как правило, было многодетным. Вот и семья Волконских росла год от года. За старшими сыновьями Сергеем и Василием родились дочери Мария, Анна, Александра, София, Елизавета, сын Александр, Екатерина и младший Борис, родившийся в 1900 году.
Жизнь в семье батюшки проходила по указаниям типикона (церковного устава). Строго соблюдались посты. Само отношение к принятию пищи было очень строгим. Еда понималась как дар Божий, к которому надо относиться с благоговением и благодарностью.
Как правило, именно матушкам доставалось воспитание детей, так как отцам, постоянно обременённым приходскими заботами, не хватало на это времени. Из рассказов своих матерей дети узнавали о Боге, Ангеле Хранителе, святителе Николае Чудотворце и прочих святых.
Матушке Евдокии пригодились в семейной жизни и уроки рукоделия и домоводства, преподаваемые в епархиальном училище, и советы училищного доктора. Как принято было в то время, мать семейства сама учила всех детей грамоте, готовила к поступлению в духовные училища.
От поступающих в 1 класс духовного училища требовалось не только знание наизусть первоначальных молитв и заповедей, но и умение объяснить их общий смысл. До поступления в училище мальчик должен был научиться бегло, сознательно и выразительно читать не только по-русски, но и по-славянски (на церковно-славянском языке), то есть сыновья духовенства должны были получить полное начальное образование (3 – 4 класса) дома.
Старшие сыновья Волконских, впрочем, сидению за уроками предпочитали речку и овраги; может поэтому в училище, а потом и в семинарии их ждали почти ежегодные переэкзаменовки. Девочки же были прилежны, учились на «отлично» и «хорошо», получали похвальные грамоты и книги в подарок.
В ноябре 1900 года 39-летняя матушка Евдокия осталась вдовой с 10-ю детьми на руках. Младшему сыну Борису было всего 9 месяцев, при матушке жили четырёхлетняя Катя и Александр 9-ти лет (он готовился к поступлению на следующий год в Петровское духовное училище). Родители мужа несколько лет как умерли, помочь осиротевшей семье было некому. Ведь по понятиям того времени женщина всю жизнь должна находиться под защитой: сначала - отца, затем – мужа, потом – сына.
Кому не известна горькая доля жён и детей духовенства, лишающихся в лице мужа и отца единственного кормильца? Почти в каждом номере Епархиальных ведомостей того времени можно прочесть некролог кого-либо из духовенства. И большинство некрологов заканчиваются словами: «После покойного осталась жена и столько-то детей без каких бы то ни было средств к существованию». Осиротелая семья, остающаяся с достаточными для прокормления и воспитания средствами, была явлением весьма редким, даже исключительным. Обычный исход вдов духовенства – занять место просфорни[6]. Но эта скудная должность едва спасала от голодной смерти.
Некоторой материальной поддержкой семей, оставшихся без кормильца, являлась имеющаяся в епархии взаимо-вспомогательная касса. Волконский Николай Иванович в течение 20 лет (с 1880 года) делал годовые членские взносы в кассу в размере 16 рублей, а всего взносов за эти годы накопилось 320 рублей. И после смерти мужа матушка Евдокия получала от епархиального попечительства бедных духовного звания 14 рублей, из вспомогательной епархиальной кассы – 48 рублей (в год). Но при постоянно увеличивающейся дороговизне содержания такая сумма могла удовлетворить только часть существенных нужд семьи.
В ноябре 1900 года учились пятеро из детей Волконских, кроме младших и дочерей Марии и Анны, которые обучение в Саратовском епархиальном женском училище закончили. На обучение Лизы, Александры, Софии, Сергея и Василия нужны были деньги и по тем временам немалые.
Родители воспитанниц СЕЖУ обязаны были представлять положенные взносы за своих детей в три срока: при начале учебного года и после рождественских и пасхальных каникул. В случае непредставления взносов воспитанницы в общежитие не принимались. С дочерей священников взималась плата 100 рублей в год. Живущие в общежитии своекоштные (своекапитальные) воспитанницы пользовались от училища столом, одеждою и обувью. Но при этом верхняя одежда и обувь (шуба, пальто, головной платок и галоши) от заведения не выдавались.
Равно не выдавались и учебники и учебные пособия; все вышеуказанные вещи должны быть свои. Если же родители желали обучать дочерей своих необязательным предметам – музыке и французскому языку – приплачивали сверх выше сказанного по 20 и 10 рублей в год соответственно. Напомним, что в ноябре 1900 года воспитанницами епархиального женского училища были три дочери Волконских и только первоклассница Лиза - на полуказённом содержании.
Семинаристы Василий и Сергей тоже жили в семинарском общежитии (вне его дозволялось жить только у родителей, имеющих постоянное, а не случайное и кратковременное жительство в г. Саратове), плата за которое была ещё выше[7]. Плату за содержание сыновей нужно было внести с 1 января по 31 марта, иначе воспитанникам тоже грозило увольнение из общежития в течение месяца.
Только для обеспечения своих детей-учеников общежитием до конца учебного года матушка должна была каким-то образом изыскать большую сумму денег. А ведь были и другие расходы. Временно могла помочь продажа дома церкви (в 1905 году дом уже не был собственностью Волконских, как в 1895-ом).
Поэтому единственным средством обеспечения семьи умершего Николая Волконского была передача прихода родственнику по наследству. По сложившейся традиции, место приходского пастыря наследовал старший в его роду сын. У Волконских было два сына, на которых и возлагались надежды наследования. Но старший Сергей так и не стал священником, а Василий в 1900 году ещё не окончил семинарию (на ноябрь 1900 года ученик 5 класса СДС).
Если же у священника были только дочери, то приход доставался зятю, мужу старшей дочери. В свою очередь, зять должен был содержать семью ушедшего на покой тестя. Немалая выгода была от этого зятю ушедшего на покой пастыря. «Поступая на новое место отца, или тестя, он был доволен тем, что он поступал в готовый дом, делался полным его хозяином, — он обеспечивался всем, и не мыкал горя по церковным сторожкам». А случаи, когда пастырь, поступая на новое место, не имел дома, были не редки.
И теперь матушка Евдокия должны была найти мужа для дочери Марии, исходя не из сердечной привязанности, а из соображений лучшего счастья. Выбор пал на Ивана Жимского, воспитанника 6 класса Саратовской духовной семинарии. Для человека духовного сословия выбор спутницы жизни был крайне ограничен во времени, как правило, это годы учёбы, по окончании которой он уже становится диаконом. Либо он успевает найти будущую матушку, либо всю жизнь сохраняет одиночество. Естественно, ближе всего было общество молодых девушек из духовного же сословия. К тому же, Иван Жимский и Василий Волконский могли быть знакомы лично, хоть и учились на разных курсах.
Мы можем только предполагать, как именно развивались события, но предложение о женитьбе и наследовании прихода Иваном было принято. 11 июня 1901 года он определён на священническое место (назначен к рукоположению в священника) при Михаило-Архангельской церкви села Малый Бакур (Корсакова Полянщина тож), а 1 августа рукоположен в священники означенной церкви. С этого времени все обязательства по содержанию и обеспечению матушки Евдокии и её детей переходили на молодого батюшку.
22 сентября 1906 года священники Михаило-Архангельской церкви села Малого Бакура. Сердобского уезда, Иоанн Жимский и Михаило-Архангельской церкви села Нижней Чернавки, Вольского уезда, Василий Волконский по прошению были перемещены один на место другого. Так о. Василий с женой Марией и годовалой дочкой Людмилой вернулся в родное село, к матушке и младшим сёстрам и брату.
В Малом Бакуре они прожили ещё много лет. Один за другим дети матушки Евдокии покидали родное гнездо. Мария Жимская с мужем переехали сначала в Вольский, а затем Камышинский уезд. Вторая дочь, Анна, была замужем за священником Петром Твердовским в Сердобском уезде. Александра и София ещё до революции перебрались в Москву – сначала учились на высших женских курсах, потом остались работать и вскоре примкнули к революционному движению.
На 1918 год матушка Евдокия получала всё ту же пенсию – 48 рублей в год, но теперь на её попечении были внуки. Дочь Елизавета к этому времени служила по народному образованию в Сердобске. Самый младший Борис учился в Сердобской единотрудовой советской школе 2-й ступени. Александр и Екатерина жили в Саратове.
Жизнь развела детей матушки Евдокии по разные стороны: одни их них встали на сторону большевиков, а другие от новой власти пострадали.
Точная дата и место смерти матушки Евдокии неизвестны.
[1] Пансионерка – «жиличка», ученица епархиального женского училища, проживающая в общежитии на полном обеспечении.
[2] Баллоти́рование или баллотиро́вка (от фр. ballote «шар»; также фр. ballotter «избирать по баллам, баллотировать») — способ выборов, закрытая или тайная подача голосов.
[3] Кти́тор — лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма или монастыря или на его украшение иконами, фресками, предметами декоративно-прикладного искусства.
[4] «Отцам иереям». Иере́й (греч. Ἱερεύς — жрец), в Русской православной церкви — рукоположённый женатый священник.
[5] Тре́бы – священнодействия и молитвословия, совершаемые священником по нужде (церк.-слав. «требованию») отдельных лиц. К ним относятся таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, елеосвящение, венчание), церковные обряды (отпевание, погребение и пр.) и другие молитвенные чины, имеющие частный характер.
[6] Просвирня — (правильнее «просфорня») лицо, занимавшееся изготовлением просфор для церкви. Обыкновенно назначались из вдов и сирот женского пола духовного звания и входили в штат причта, пользуясь правами его члена.
[7] На правах пансионеров (с платою в год 157 р. 50 к.) и полупансионеров, т.е. пользующихся от Семинарии только помещением и столом (с платою в первый год 120 р., а в последующие – по 100 р., из них 20 р. – за постельные принадлежности).